 | ||||
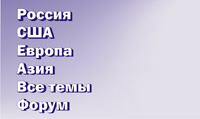  СтатьРцДокуРСВенты КонференцРСвЂР  С†Р СџРЎР‚есс-релРСвЂР В Р’В·Р РЋРІР‚в„– |  Проблемы сциентификации техники и пути их решения в начале ХХI века Электронное издание AtomInfo.Ru всегда с удовольствием предоставляет слово коллегам из смежных отраслей, особенно когда они говорят об общих проблемах. Мы уже публиковали статью Алексея Ярцева Япония: брать пример или учиться на ошибках?. Теперь мы представляем читателям новую работу этого автора, посвящённую проблемам сциентификации техники. Алексей ЯРЦЕВ - тренер-консультант компании "Zeppelin Int". Процесс сциентификации техники, вошедший в особенно активную стадию с 20-ых годов ХХ века, приобретает ряд специфических черт в начале XXI века. В основном это связано с ускорением процесса сциентификации техники, который стал возможен благодаря бурному развитию микропроцессорной техники с середины 80-ых годов и значительному улучшению средств коммуникации в научном и инженерном сообществах. Особенности протекания этого важного процесса и связанные с ними риски и возможности требуют подробного рассмотрения и принятия ряда ключевых решений. На этапе с IX по XVII век, наиболее институализированной системой в обществе являлась религия. Именно из неё наука и черпает примеры социальной организации. Именно с её помощью популяризируется в обществе. Религия и наука сначала сращиваются после того как монахам разрешают заниматься наукой (а позже, в XI веке появляется и первый университет именно под эгидой церкви), а затем вступают в конфликт (свободные религиозные диспуты IX-X веков). Именно религия сыграла большую роль в институализации науки: она была и примером для подражания, она же и стимулировала науку отвечать всем потребностям общества (устойчивость, стабильность, поиск основ бытия). Наука заняла место религии в европейской цивилизации, роль мировоззрения. В ходе этого наука отделяется от церкви и начинает уверенное движение к созданию собственного сильного социального института. "С когнитивной точки зрения - это фаза, когда наука достигает своей автономии, означающей, что её основные темы описываются главным образом в соответствии с теоретическим рассмотрением" ([7] c.134). На этом этапе наиболее ярко проходит граница между наукой и техникой, что побудило многих исследователей и современников считать их независимыми друг от друга системами. Сколимовски, например, считал: "Наука преследует цель увеличения нашего знания с помощью всё лучших теорий, техника же преследует цель создания новых артефактов с помощью изобретения средств повышения эффективности. Таким образом, в каждом из этих случаев цели и средства различны" ([6] c.371). На этом этапе такое мнение было весьма близко к истине: наука действительно ограничила круг своих интересов вопросами истинной сущности вещей, поиска знания о природных вещах и объяснения всех явлений, а техника продолжала создавать артефакты. Наука пользовалась логикой и аргументацией приобретёнными в диспутах с религией, а техника результатами опытов и эмпирическими наблюдениями. Сколимовски Х. - Американский философ польского происхождения. "Уже на рубеже XVII столетия интерес к теории стал перевешивать интерес к исследованию, ориентированному на практические нужды даже в Королевском обществе и Академии наук, чьи уставы ставили условием поощрение торговли" ([7] c.111). Однако наука также нацелена на решение проблем, а не только на их теоретическое рассмотрение. Человек, выбирая объект научного исследования, руководствовался личными интересами. Стараясь быть объективным, ученый абстрагируется от применимости результатов его труда, его исследований и выработанных им теорий, однако полный деантропоцентризм невозможен по определению: человек не может создать теорию, не относящуюся к человеку, не решающую его проблем и не затрагивающую его сферу интересов. Аргументация разделения науки и техники строится на различиях побуждающих факторов в науке и технике. "Для социального изучения науки и познания вообще взаимодействие науки и техники является крайне важным. Но наука и техника - системы знания, которые концентрируют свое внимание на открытии законов природы или по крайней мере используют их. Они различны с точки зрения критериев, которые определяют выбор и формулировку проблем, описание основных тем и стратегий исследования" ([7] c.135). Если научный поиск это поиск случайной возможности, возможности по сути, то есть потенции, в которой человек имеет место наблюдателя, но не объекта возможности, то технический поиск - поиск возможности антропоцентрированной, потенции "для человека". Отсюда различия между восприятием технического знания и научного. "Несмотря на близость обеих отраслей (естествознания и техники - прим А.Ярцев), различные цели исследования влекли за собой новое отделение науки от техники. В то время как инженер проектировал технику и совершенствовал её функции, технически реализуя практические цели, ученый пытался понять, как она функционирует, и направлял свое внимание на теорию" ([7] c.111). Известный американский историк техники М.Кранцберг в своей статье "Разобщённость науки-техники" полагал, что наука лишь использует технику как инструмент для получения нового знания. Он же придерживался той точки зрения, что наука вмешивается в развитие техники уничижительно мало, что её влияние никак нельзя назвать абсолютным. Д.Сахал считал, что сама техника развивается исключительно за счет эмпирического знания. И тот и другой стоят на крайней позиции, разделяющей науку и технику, которая односторонне описывает положение дел в период с XIX по XX век, а не общую картину взаимоотношений науки и техники. На этапе с XVII до начала XX века наука и техника значительно разобщены и общаются опосредовано, подтверждая тем самым расхожие суждения этого времени о том, что это различные и автономные социальные системы. "Техническое развитие в конце XIX века и в растущей степени в XX веке, вызванное капитализмом и войной, ведёт к расширению исследований и разработок в промышленности, к созданию независимых институтов по прикладным исследованиям и к сдвигу технического образования от обучения на рабочем месте к академическому" ([7] c.125). Нарастающий интерес к такой деятельности в указанный период обеспечил массированный приток кадров в технику. С начала XX века достижения науки, её методология активно внедряются во все социальные институты. Причиной этого стал видимый "сдвиг интересов к таким нормам, как точность, недвусмысленность, универсальность и обобщенность" ([7] c.146). "Если в некоторых сферах, например связанных с двигателями, инженерная работа могла покоиться на теоретических основаниях, выработанных наукой в этом и предшествующих веках, то в других технический прогресс покоился на современных или самых последних научных открытиях, как, например, в случае с радио (Маркони,1895-1907) и с вентилем Флеминга (1904), которые были тесно связаны с работой Максвелла по электромагнетизму (1873). Другим примером является химия, где разработка периодической системы (Менделеев, 1871) и развитие основных теорий химических соединений (Кекуле,1858-1866) подготовили фундамент для того, что должно было стать первой отраслью промышленности, "основанной на науке" ([7] c.146). "…Воспроизведение и объективация событий были уже установлены ремесленниками и инженерами; в связи с наукой, однако они в большей степени подвергаются спецификации и стандартизации. Это и есть то, что определяет развитие научных инструментов и процедур" ([7] c.113). Этот факт иллюстрирует процесс институализации техники, систематизации технического знания, организации технических институтов. Техническому знанию придаётся форма такая же, как и научному - с этим и связан подъём техники в XX веке. Влияние, конечно, идёт в двустороннем порядке: возникает новая структура: "развитие научного знания достигает той точки, где его объяснительная и предсказательная сила может быть расширена на быстро растущее множество явлений; технические же явления достигают такой сложности, что их решение требует использования научных методов, особенно выработки теорий, основанных на математическом описании и систематических экспериментах" ([7] c.156). Таким образом, наука во взаимодействии науки и техники как социальных систем играла доминирующую роль до появления информационного общества. Это связано с недостаточным развитием системы образования и связанным с этим так называемым "коммуникационным лагом", когда научные знания, полученные одним поколением, транслировались в технику и реализовывались в технических достижениях только последующим поколением. Явление сциентификации техники зародилось в конце XX столетия и после научно-технической революции в середине ХХ века приняло новый вид. Теперь это были два взаимосближающиеся сообщества. Важным фактором развития техники и науки является обмен опытом организационной работы. При участии научных кадров техника институализировалась и к началу XXI века приобрела вид типичный для науки. Появились общественные институты, а техническое образование отделилось от практики и приняло академический вид. На современном этапе техника все решительнее занимает в общественном сознании то место, что в начале двадцатого века занимала наука, то место, что в XV-XVII веках в Европе занимала религия. Общественное доверие и интерес к технике сегодня выше, чем к науке и это - специфическая черта отмечающая современный этап развития техники как рубежный. "Становление технических наук связано с приданием инженерному знанию формы, аналогичной науке. В результате сформировались профессиональные общества, подобные научным, основаны научно-технические журналы, созданы исследовательские лаборатории, а математические теории и экспериментальные методы науки были приспособлены к техническим нуждам. Таким образом, инженеры в ХХ веке заимствовали из науки не просто результаты научных исследований, но также её методы и социальные институты. С помощью этих средств они смогли сами генерировать специфические, необходимые для их сообщества знания" ([1] c.153). Само понятие постиндустриального общества определяется теоретиками постиндустриализма (Д.Белл) как общество, основанное на высоких технологиях, общество признавшее главным источником прогрессивного развития совершенствование методов и средств производства. Это даёт повод однозначно называть современное информационное общество техногенным. Д. Белл - американский социолог и публицист, член Американской академии искусств и наук. Автор книги "Конец идеологии" (The End of Ideology, 1960), теоретик постиндустриального общества. Проблема сциентификации техники, то есть прогрессирующего проникновения науки в технику, использование техникой все более наукоёмких решений, основывающихся на высоконаучных теоретических разработках в начале XXI века, становится перед обществом особенно остро. Что порождает некоторые весьма значительные риски: риски от недобросовестности использования научно-технических достижений, экологические риски, риски ответственности инженера за результаты своей интеллектуальной деятельности и риски связанные с возрастающим отставанием правовой базы от потребностей современного научно-технического общества. Одной из отличительных черт постиндустриального общества можно назвать продолжающееся возрастание зависимости технического прогресса от науки. Современное общество технизировано и этот процесс будет продолжаться в том числе и в связи с прогнозируемым увеличением доли городского населения. Эти процессы сращивания человека и техники, города и техники, техники и науки, приводят к повышению ответственности научной элиты за жизнь общества. На сегодняшний день общество и мировоззрения меняются вместе с техническими прорывами (такими как Интернет, мобильная связь, высокоскоростной транспорт). Сценарий появления и развития нанотехнологии ярко демонстрирует степень смешения науки и техники в начале XXI века. Дисциплина, находящаяся на стадии предваряющей практическую реализацию, открыто заявляется, как технология. Это говорит о социальном восприятии этого явления как единого целого, однако по-прежнему существует нанонаука и нанотехника. Что подтверждается в речи одного высокопоставленного российского чиновника, произнесенной на открытии "Руснанофорума-09", в которой он говорил, что в России есть нанонаука, но пока нет нанотехнологий: нет реализованных продуктов, промышленного производства. Это говорит о факте смешивания науки и техники на многих уровнях. На уровне институтов, на уровне общественного сознания и на уровне практики. Взаимовлияние науки и техники возросло настолько, что проблемы научного кризиса ложатся на технику, а проблемы развития техники влияют на ход изменения научной картины мира. В постиндустриальном обществе наука перешла от рассмотрения простых и саморегулирующихся систем к рассмотрению и анализу систем нового типа - саморазвивающихся систем. Это стало возможным благодаря синергетике и концепции универсального эволюционизма. Именно этот факт расширения и частичной смены интересов естественной науки меняет имидж науки в обществе. Синергетика - междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем (состоящих из подсистем). Универсальный эволюционизм - современная концепция естествознания, утверждающая применимость эволюционного принципа развития для любых систем. Именно наука вкупе с техникой в начале XXI века занимает положение общепринятого мировоззрения. Отношение к науке в обществе, доверие оказываемое ей - беспрецедентно. Об этом могут свидетельствовать программы финансирования гибридных (между наукой и техникой) дисциплин, таких, как биомедицина, биотехнологии, экология, кибернетика, информатика, поиск альтернативных источников энергии. Об этом же говорит и престиж науки в обществе. "Современная наука развивается и функционирует в особую историческую эпоху. Её общекультурный смысл определяется включенностью в решение проблемы выбора жизненных стратегий человечества, поиска им новых путей цивилизационного развития" ([2] c.354). С этим особым положением науки связан и переживаемый современной наукой глубокий кризис. Наводнение недобросовестными кадрами научных институтов, бюрократизация и коммерциализация научных и технических сообществ - реальные актуальные проблемы современной мировой науки. Задача перед научным сообществом стоит непростая: необходимо выходить из кризиса, попутно решая важнейшие для общества вопросы. "В настоящее время техногенная цивилизация, развивающаяся как своеобразный антипод традиционных обществ, приблизилась к той "точке бифуркации", за которой может последовать её переход в новое качественное состояние. Какое направление эта система выберет, какой характер будет иметь её развитие - от этого зависит не только статус науки в обществе, но и само существование человечества" ([2] c.354). Вопросы по решению экологических проблем, проблем связанных с недобросовестным использованием научных достижений (таких как атомная бомба и фашизм в прошлом), проблемы ответственности в техногенном обществе (такие как Чернобыльская катастрофа) - могут быть решены только наукой. Так как другого столь же престижного социального института в современном обществе просто нет. Эти проблемы связаны во многом с определением положения человека создающего технику в современном мировоззрении. "Инженер - это не узкий технический специалист, решающий сугубо профессиональные задачи. Его деятельность связана с природной средой, являющейся основой жизни общества, и самим человеком" ([1] c.157). Творческая деятельность человека по изменению среды существования и самого себя по своей сложности уже вышла за рамки понимания последствий этой деятельности. Это и огромная возможность для современного человека, но и огромная ответственность. Непростая ситуация усугубляется "нечеловеческой" сложностью технической деятельности. "Инженерная деятельность - это сложный комплекс изобретательской, конструкторской, проектировочной, технологической деятельности, обслуживающей разные сферы техники - машиностроение, электротехнику, химическую технологию и т. д." ([1] c.169). "…современное разделение труда в области инженерной деятельности неизбежно ведет к специализации инженеров, работающих преимущественно в сфере либо инженерного исследования, либо конструирования, либо организации производства и технологии изготовления технических систем" ([1] c.170). Эта проблема связана с пределом человеческих возможностей и рядом когнитивных ограничений, которые накладывает на нас сама сущность человеческого: человек не может слишком быстро обучать новым и новым аспектам деятельности - отсюда возникает разделение труда, человек так же не может понимать всё, чему его учат. К тому же человек не может обучаться настолько быстро, насколько этого требуют современные сложные технические системы - отсюда неизбежные ошибки и риски инженерной деятельности. В.Г. Горохов отмечает ещё один аспект этой проблемы: "Расслоение инженерной деятельности приводит к тому, что отдельный инженер, во-первых, концентрирует свое внимание лишь на части сложной технической системы. Во-вторых, он все более и более удаляется от непосредственного потребителя его изделия, конструируя артефакт (техническую систему) отделенным от конкретного человека, служить которому он прежде всего и призван" ([1] c.158). В своей работе об инженерной деятельности В.Г. Горохов отмечает и позитивные факты, связанные с инженерной деятельностью: "Часто крупные инженеры одновременно сочетают в себе и изобретателя, и конструктора, и организатора производства" ([1] c.169). Однако такие случаи по-прежнему являются исключениями из правил. При этом определить меру ответственности за научные изобретения до сих пор не представляется возможным. Невозможно просчитать ни социальные, ни экологические последствия большинства изобретений и открытий. Поэтому проблема ответственности инженерной деятельности в науке и технике до сих пор остается открытой. На современном этапе сциентификации техники отмечается кризис науки. А при тесном взаимодействии и взаимопроникновении науки и техники, проблемы переживающей кризис науки не могут не переноситься на технику. Если раньше между наукой и техникой существовал естественный барьер, который представлял собой ряд сложностей с технической реализацией идей, сложностей с завоеванием общественного признания, сложностей с попаданием в ряды учёных из-за плохо развитого образования (например Индия и Китай до четвертой четверти XX века), а также сложностей административно-бюрократического порядка, то сегодня эти барьеры перестают иметь столь существенное значение, что влечёт за собой существенное увеличение чувствительности жизни общества к происходящему в мире науки. Речь идёт о заметном изменении образа жизни и мировоззрений современного глобального человеческого сообщества. Другая отличительная черта современного развития техники, простота реализации научных идей - это и великая возможность, и великий риск. С развитием информационного обмена и "сужением" пространства благодаря развитию транспорта и коммуникационных сетей, реализовать возникшую научную идею становится с каждым годом все проще. "Сила нашей практической деятельности развёртывается быстрее, чем наша способность предвидения - такова дилемма ответственности в системотехнический век, характеризующийся сетью воздействий и динамическими изменениями, которым научные знания не во всех разветвлениях в состоянии следовать достаточно быстро" ([5] c.89). В связи с этим важной задачей остается передача полученных знаний последующим поколениям. Возрастающее значение имеют вопросы образования и расширения когнитивных способностей человека, потому что развитие технических систем идет по возрастающей с усложнением. Процесс сциентификации техники накладывает на процесс усложнения технических систем особый отпечаток: технические системы становятся все более и более наукаёмкими и требуют все большей и большей научной подготовки от инженеров, как развивающих эти системы, так и эксплуатирующих их. Со вступлением общества в постиндустриальную фазу развития была практически преодолена проблема "коммуникационного лага". Если раньше от момента возникновения научной идеи до её реализации, она проходила множество опытов и долгий процесс общественного признания, то теперь стали возможными случаи, когда автору идеи достаточно убедить только спонсора реализации, а не всё заинтересованное сообщество. То есть, раньше для внедрения технического решения необходимо было общественное одобрение и осознание "нужности", но теперь достаточно только денег на реализацию и рекламу. Что влечет за собой также и риски связанные с псевдонаучностью и потенциальной опасностью научных идей для общества, экологии и самого развития науки. Примером корыстных и антигуманных реализаций может являться идея фашизма, основанная на псевдонаучных, псевдоантропологических наработках, которая привела к масштабным преступлениям против отдельных народов. Или реализация проекта атомной бомбы в середине прошлого столетия, когда руками нескольких десятков учёных и бригады пилотов были нанесены атомные удары по городам, населённым людьми. Таким образом, следует отметить, что любые засекреченные разработки, спонсируемые ограниченной группой лиц без огласки общественности - непредсказуемый риск для всего человечества. Решением такой проблемы может стать открытость для СМИ и общественных организаций содержания научных проектов, повсеместная огласка научных разработок и рисков, с ними связанных. Демократизация науки, открытость и гласность в вопросах научных разработок может дать новый толчок к гуманизации науки, возвращению её важной моральной составляющей: поиску истины и поиску блага для человека. "Традиционно техника и наука принимались, а часто и поныне принимаются за морально нейтральные. Вместе с тем их результаты и достижения могут применять как на добро, так и во зло человеку и обществу, и поэтому часто возникала проблема: что есть добро и что есть зло, что этично, а что неэтично" ([5] c.92). Однако в сегодняшнем мире уже нельзя называть науку и технику морально нейтральными. Как и любая человеческая деятельность, они имеют последствия, принимающие морально-этическую окраску. Проблема заключается в том, что невозможно предвидеть всего. А в системном мире последствия технической деятельности могут откликнуться в самых неожиданных местах. Однако существует возможность разработки матриц компетентности, а в след за ними и матриц ответственности за принятые решение, на основе которых можно будет регулировать ответственность инженеров и учёных, хотя бы на обозримых горизонтах предсказуемого. Развитие техники породило ещё одну проблему: это проблема отставания правовой базы от техники. На глазах одного поколения людей сменяются технологии: ещё в 90-ые годы широкое распространение имела технология видеокассет (магнитная лента для передачи видеоизображений), затем её сменила технология лазерных дисков, позже технология юэсби-носителей (usb-data) и интернет. Однако развитие этих технологий, технологий передачи видео, аудио и прочей информации усугубляют с каждым годом проблему пиратства. Юридическая защита прав авторов с каждым годом ослабевает, а действенных мер борьбы со скачиванием новинок аудио- и киноиндустрии в сети интернет до сих пор не найдено. Соотношение легальных продаж через интернет по отношению к пиратским скачиваниям в этой сети в 2009 году составило 1 к 20. Это говорит о необходимости изменения подхода к этой проблеме и пересмотра взглядов на авторские права. Одно из возможных решений - это полный отказ от прав на нематериальную собственность. Пропагандирующие такое решение правозащитники уже создали свою партию в Швеции и прошли в парламент Евросоюза. Интернет, как ярчайшее социально-техническое явление нашего времени, вообще существует вне правовой базы. Закон не регулирует ни доступ в эту сеть, ни доступ к ресурсам, ни свободу слова, ни, как уже говорилось ранее, права собственности. Доступ в сеть даже для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, ограничивается только техническими трудностями, но не законодательно. Так же выглядит ситуация и с правовым регулированием индустрии мобильной связи. Ещё одной заслуживающей внимания опасностью современного этапа сциентификации техники является узкопрофильность современных ученых. Становление науки в XXI веке как массового социального института, ежегодно привлекающего в свои ряды массу молодых учёных по всему свету, ставит перед наукой проблему этического и морального воспитания своих кадров. Кризис современной науки, который сопровождается утратой чувства истины в науке, процессом коммерциализации научной деятельности и появлением "лишних" людей в науке (заинтересованных лишь в научных степенях и карьерных продвижениях, вместо истинно научных достижений) сказывается на потенциале развития техники. Решением этой отдельно взятой проблемы не может быть простая административная реформа, так как по оценкам представителей научно-философского сообщества уже сегодня многие посты занимают люди "остепенившиеся" нелегально, то есть за деньги. Такой возможностью в 90-ые к сожалению воспользовались многие. И сегодня необходима глубокая тщательная ротация кадров научного сообщества России. "Отдельно взятая личность может лишь pro forma, то есть формально, как публично, так и политически, нести ответственность за крупный технологический проект. Какая же польза из того, что личность, скажем, в качестве директора атомной электростанции, после крупной по масштабам катастрофы уйдет в отставку? В настоящее время чисто формальное взятие на себя ответственности уже явно недостаточно" ([5] c.145). "Разработка этики для институтов, других научных или технических коллективов настоятельно необходима, особенно в тех условиях, при которых не все проблемы ответственности могут быть введены в правовые рамки. Ибо это было бы, с одной стороны ограничением, что препятствовало бы продуктивности исследований и исследовательской свободе" ([9] c.147). Высказываются опасения и по поводу того, что наука становится производителем информации, а не знаний. "Речь идет о возрождении под видом новых научных направлений различного рода псевдонаучных, эзотерических знаний, а зачастую просто шарлатанства. Пропагандируемые средствами массовой информации, они создают особые состояния массового сознания, разрушая его рациональную составляющую, порождая различного типа нереализуемые ожидания, направления и конфликты" ([3] c.376), что не может не вредить имиджу науки, а значит и перспективам её развития. И это одна из серьёзных опасностей для развития науки и техники. Возрождение и перерождение всякого рода мистических, эзотерических и прочих "наук" является следствием популярности научного способа познания в современном обществе. Это явные попытки спекуляции на имидже современной науки как массового общепринятого и авторитетного мировоззрения. "Само по себе вненаучное знание, выражающее различные формы человеческого опыта, не является опасностью для науки. Наука может взаимодействовать с этими знаниями, может анализировать их своими средствами. Что же касается псевдонауки, то она мешает научному исследованию, она вроде вируса, который чужд науке, но маскируется под неё и, внедряясь в науку, может привести к опасным деформациям её исследовательской деятельности" ([3] c.376). Сегодня появляется необходимость ограничить приток "лишних людей" в науку и контролировать появление в СМИ отчётов об исследованиях, проводимых непрофессионалами в своей области. С другой стороны, накладывание формальных рамок на научную деятельность учёных приводит к тому, что молодые учёные не могут заявить о своем открытии, если оно касается не его профилирующей области. К тому же резкое ограничение поля проблем для каждой области научного знания может привести к снижению творческой активности ученых. Однако надо попытаться не только наметить пути решения, но и попытаться взглянуть в суть этого явления. Популярность ненауки, псевдонауки и прочих эзотерических учений не случайна. "Это связано с особым статусом науки в культуре техногенной цивилизации, которая пришла на смену традиционалистским обществам. Наука активно участвует в формировании мировоззрения людей современного общества, а её нормативные структуры, способы доказательства и её знания выступают как основа принятия решений в самых различных областях деятельности" ([3] c.376). "Люди, занимающиеся наукой, выпадают из индустрии развлечений, поэтому наука не считается ныне привлекательной. Западные социологи констатируют, что люди сейчас не стремятся в науку, что статус её значительно упал по сравнению с тем, каким он был даже в начале ХХ века. Хотя в науку ещё верят. Но больше верят в технологии. К ним относятся с благоговением" ([3] c.380). Таким образом, можно сказать, что имеется ясный тренд к изменению статуса технологии, как нового мировоззрения. То есть нам предстоит наблюдать замену главенствующего места в мировоззрении общественности науки на технику. Эффективным решением проблем сциентицикации техники может являться ужесточение административного контроля. Простое ужесточение законов, стандартов и технических регламентов, вложение сил в укрепление кадрового состава институтов стандартизации не ведет к решению проблемы. Так как сегодня ужесточение законов и стандартов ведет только к увеличению числа поборов и взяток. Замечательно в этой связи, что у лженауки уже появляется конкурент - ненаука. Ненаука отличается, в первую очередь, тем, что в отличие от лженауки не пропагандирует искаженного взгляда на истину, а оттягивает деятельность инженеров на "мёртворожденные" проекты. Правительство Великобритании потратило 3 года и 300 тысяч фунтов на то, чтобы узнать любят ли утки дождь. А технологическая халатность конструкторов баллистической ракеты "Булава" обошлась Российскому правительству в 1 миллиард долларов. Эти и подобные растраты не могут не влиять негативно на экономики современных государств. Ненаука - признаётся научным сообществом, но не несёт никакой полезности. Особенно распространена в гуманитарных сферах. В этой связи любопытно мнение одного из учёных-аналитиков научного процесса Дж. Холтона: "Открытое разоблачение лженауки в СМИ - это важно, но не решает проблемы. А решает её отлаженная система образования, основанная на преподавании фундаментальных наук" ([4]). Россия в этом вопросе значительно отстаёт в виду по-настоящему больших проблем, вязанных с коррупцией, естественным старением сообществ, оттоком кадров из-за эмиграции, бюрократизацией и низким качеством образовательных программ. Это влечёт за собой риски расслоения и отдаления научного и технического сообществ и, следовательно, значительного отставания отечественного общества в мировом процессе сциентификации техники. В связи с этим необходимо разработать программу стимулирования деятельности организаций, занимающихся организационным и процессным консультированием научно-исследовательских центров, инженерных сообществ и с их помощью постоянно улучшать качество взаимодействия научных и технических сообществ. Ещё в середине XX века американский социолог Д.Белл предсказывал ориентацию на появление средств контроля над технологией и технологическими оценками деятельности и выработку нового процесса принятия решений, создание "новой интеллектуальной технологии". Решение же двух других проблем, связанных с администрированием и контролем научно-технической деятельности, лежит в области политических и экономических средств контроля. Уже сегодня увеличение привлекательности научно-технических проектов стимулирует участие в них крупного бизнеса. А инвестирование в проекты влечет за собой контроль за инвестициями, что благоприятно сказывается на дисциплине внутри научно-технических сообществ. Привлечение бизнеса и экономических способов регулирования деятельности может стать действительно эффективным путем решения проблем коррупции, бюрократизации и безответственности в науке. В России уже имеется положительный пример качественного администрирования научно-технических проектов. Госкорпорация "Роснано" имеет к осени 2009 года 22 высокотехнологичных экономических проекта. Среди них проекты в инструментальной отрасли, в которой благодаря конкретному набору решений (технология, инвестиции, производственные площади) обнаружены перспективы по качественному изменению отечественной металлообработки. "Роснано" начинает также формировать некоторые отрасли с нуля. Например, отрасль солнечной энергетики. Это можно считать положительным примером конкретного решения проблемы экологии, которая является одной из трех ключевых проблем начала XXI века в науке. Таких успехов удалось достичь только благодаря жёсткому подходу к отбору спонсируемых проектов. В первую очередь оценивалось соответствие представленного научно-технического проекта заявленной приставке нано-, то есть собственно действительно ли этот проект связан непосредственно с манипуляциями частицами на нано-уровне. Во вторую очередь оценивалась экономическая рентабельность предлагаемого проекта, то есть нужен ли этот проект стране, может ли он приносить конкретную пользу обществу и экономике, стоит ли он денег необходимых на его реализацию. Безусловно, нанотехнологии - не единственные необходимые современному российскому обществу, однако опыт работы на стыке науки, техники, государства и экономики интересен. Итак, возвращаясь к проблемам современного этапа сциентицикации нельзя не отметить, что наиболее общие из них складываются из второстепенныхю
Все вышеуказанные проблемы нуждаются в повышенном внимании общества. Решения этих проблем требуют участия различных социальных институтов, в том числе немаловажную роль предстоит сыграть представителям философии науки и философии техники. Привлечение специалистов этих дисциплин к решению технологических проблем и обсуждению возможных последствий принимаемых техногенных решений поможет значительно упростить и сгладить процесс сциентификации техники в ХХI веке.
ИСТОЧНИК: Алексей Ярцев ДАТА: 31.10.2009 Темы: Наука |
| ||
Р’В© AtomInfo.Ru – незавРСвЂР ЎРѓР СвЂР В РЎВый атоРСВный Р В РЎвЂР  Р…форРСВацРСвЂР  С•Р Р…Р Р…Р С•-аналРСвЂР ЎвЂљР СвЂР ЎвЂЎР ВµРЎРѓР С”Р СвЂР  в„– сайт, 2006-2025.
РЎРІРСвЂР В РўвЂР  ВµРЎвЂљР ВµР В»РЎРЉРЎРѓРЎвЂљР Р†Р С• Р С• регРСвЂР ЎРѓРЎвЂљРЎР‚ацРСвЂР  С†Р РЋР СљР В Р ВВР В Р’В» №ФС77-30792.
ATOMINFO™ - зарегРСвЂР ЎРѓРЎвЂљРЎР‚Р СвЂР ЎР‚ованный товарный знак.
Р В Р’ВспользованРСвЂР В Р’Вµ Рцперепечатка Р В РЎВатерРСвЂР  В°Р В»Р С•Р Р†Р ТвЂР  С•Р С—ускается РїСЂРцуказанРСвЂР  С†РЎРѓРЎРѓРЎвЂ№Р В»Р С”РцРЅР° Р В РЎвЂР ЎРѓРЎвЂљР С•РЎвЂЎР Р…Р СвЂР  С”.