 | |||||
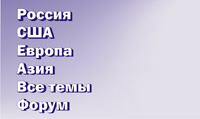  Статьи Быстрые - шаг вперёд Рє технологии вывода Блок СЃ БН-600 продлён РґРѕ 2040 РіРѕРґР° Китай - планы РїРѕ РіРёР±СЂРёРґРЅРѕР№ станции ЛАРРЎ-8 - залит первый бетон РРЅРґРёСЏ - Rajasthan-7 РІ сети БФС-1 - физпуск критсборки для РњРћРљРЎ РІ Р’Р’РР -РЎ ЧМЗ - рекорд РїРѕ производству оболочек Р РѕСЃСЃРёСЏ Рё РњСЊСЏРЅРјР° подписали РњРџРЎ РїРѕ РђРЎРњРњ Ленинград-6 - начался монтаж статора генератора Документы Генсхема-2042 (утверждённый вариант) Конференции Пресс-релизы Памяти товарища - Красимир Христов Новости РџРћ Старт Новости РџРћ Старт Временный РіРѕСЂРѕРґРѕРє строителей Якутской РђРЎРњРњ открыт |  Атомный самолёт по-обнински: из воспоминаний первого гендиректора ОНПП Технология Как создавался первый в СССР самолёт с атомным двигателем, и почему от этой идеи пришлось отказаться? Каким был в общении советский "атомный Левша", конструктор от Бога Владимир Малых? Кто первым зажёг лампочку от прямого преобразователя? Ответы на эти и многие другие вопросы вдумчивый читатель может найти в "Автобиографической повести генерального директора", написанной первым генеральным директором ОНПП "Технология", лауреатом Ленинской премии, академиком Александром Гаврииловичем РОМАШИНЫМ, главы из которой мы сегодня представляем. Весной 1957 года на преддипломную практику нашу группу из восьми студентов, теплофизиков 5-ого курса МЭИ, направили в лабораторию "В", тогда это был п/я В-276, а затем ФЭИ. Перед этим прошли жёсткий отбор по режиму с вызовом на собеседование в дом №26 без вывески в Старомонетном переулке Москвы. Там размещалась кадровая служба Министерства среднего машиностроения - будущее министерство атомной промышленности. Обнинска тогда ещё не было. Был полустанок для пригородных поездов "Обнинское". Сошли с пригородного поезда. Налево станция, а справа ряды деревянных бараков. Пошли в их сторону. Прошли через лес (ныне парк культуры на улице Ленина) и подошли к зоне с часовым и шлагбаумом. Зона начиналась сразу перед школой им. Шацкого.
Поселили нас в пионерском лагере. Из посуды были только большие металлические чайники. В чайниках иногда варили грибы. Было много белых грибов в роще возле пионерского лагеря. В одной комнате мы все 8 человек и жили. После практики мы все были оставлены в ФЭИ на выполнение дипломных проектов. Распределили нас по разным отделам, хотя большинство направили в отдел Субботина Валерия Ивановича, будущего академика АН СССР, занимавшегося теорией и экспериментальными исследованиями теплообмена в ядерных реакторах. Меня почему-то направили в технологический отдел Малыха Владимира Александровича, который разрабатывал и изготавливал тепловыделяющие элементы для реакторов, в том числе и для реактора первой в мире атомной станции. К этому времени Малых В.А. уже был легендарной личностью. За решение сложнейшей конструктивно-технологической проблемы, за создание ТВЭЛа первой в мире атомной электростанции ему была присвоена Ленинская премия, присвоено звание Героя Социалистического Труда, а при защите кандидатской диссертации сразу же учёный совет проголосовал и за присуждение степени доктора технических наук. В общении Малых В.А. был человеком взрывчатым, но в целом демократичным и справедливым. Он пригласил меня, коротко поинтересовался кто я, что я и направил в группу Золотова Николая Фёдоровича, на стенд ресурсных испытаний ТВЭЛов, прототипов ТВЭЛов первой АЭС. Стенд представлял собой тепловой контур с бессальниковым электромагнитным насосом, как и на первой АЭС. Водопаровой цикл полностью соответствовал таковому на АЭС. Стенд работал круглосуточно и я наравне с другими сотрудниками дежурил по сменам и был, соответственно, принят на работу (временно). Постановка ТВЭЛов на ресурсные испытания оказалась оправданной, так как ТВЭЛы имели сравнительно ограниченный срок службы, и имело место разрушение (взрыв) прототипа ТВЭЛа на стенде, кстати, во время дежурства нашей смены. Наши испытания в какой-то мере предопределили предельно допустимый ресурс работы ТВЭЛов при эксплуатации первой в мире АЭС. Насколько небрежно смотрели тогда (1957 г.) на технику безопасности, можно судить потому, что наш стенд находился на первом этаже главного корпуса ФЭИ, прямо под кабинетом директора института Красина Андрея Капитоновича. Хотя в испытывавшихся ТВЭЛах был реальный уран. Когда ТВЭЛ разрушился, имел место выброс сплава урана в атмосферу. Услышав хлопок-взрыв, Красин поинтересовался, что произошло. Узнав, успокоился, и этим всё закончилось. Когда пришло время оформлять дипломную работу, меня освободили от дежурства на стенде и выделили рабочий стол на антресолях, в помещении, где заполняли ТВЭЛы расплавом, содержащим уран (лаборатория Стрельцова Евгения Ивановича). Темой моей дипломной работы была разработка и теплофизический расчёт стенда для ресурсных испытаний ТВЭЛов, аналога уже работавшего тогда стенда, но более современного. Диплом я защищал на госкомиссии, которую тогда возглавлял заместитель директора ФЭИ Глазанов Владимир Николаевич, матёрый, закоренелый электродинамик. При докладе я допустил "вольности", ввёл понятие "последовательно-параллельное соединение" в электрической цепи нагревателей. Защита прошла успешно, но получил за защиту 4 балла. Правда это ни в коей мере не повлияло на мою перспективу, поскольку решено было меня оставить в ФЭИ, тогда как больше половины из нашей группы дипломников направили на работу в Мелекесс (ныне Димитровград). Диплом я защитил в феврале, а в марте 1958 года уже был принят на работу в качестве старшего лаборанта. Почему-то в ФЭИ преимущественно на эту должность зачисляли молодых специалистов. Направили меня в лаб.36, которую возглавлял Работнов Семён Николаевич, кандидат физико-математических наук с университетским образованием. Человек порядочный, интеллигентный, добрый и мягкий по характеру. В эту же лабораторию входил и стенд Золотова, где я делал дипломный проект. Я должен был работать в корпусе 3С, который находился внизу за главным корпусом возле реки. Строился он изначально как испытательный корпус, поэтому там были предусмотрены соответствующие боксы, разделённые друг от друга, в которых располагались разные стенды для испытания на термостойкость, ресурсные испытания и т.д. Меня направили на газодинамический стенд. Предназначался он для следующей проблемы. Американцы в своё время и Советский Союз вслед за ними решили заняться фантастическим проектом - делать прямоточный авиационный двигатель на атомной энергии, т.е. воздух входил бы в ТВЭЛы, проходя через ТВЭЛы нагревался, а на выходе с повышенной температурой создавал соответствующий эффект прямоточного двигателя. В данном случае атомный реактор заменял собою камеру сгорания, которая традиционно была в авиационных двигателях. Так вот на стенде, на который меня направили, должны были как раз испытывать керамические ТВЭЛы, предназначенные для такого реактора. Научным руководителем по атомной проблеме был назначен Александров Анатолий Петрович, известный в то время академик. Он вёл многие атомные проекты, был президентом Академии наук СССР. Руководителем по двигателям был Люлька Архип Михайлович. Он сразу к этой проблеме отнёсся скептически. Когда мы бывали у него в КБ, а это было известное авиадвигателестроительное КБ, ясно было, что он в это дело не очень верил. И говорил примерно так, когда я создаю двигатель из металла, я имею и тут, хлопает по груди, где ордена обычно, и тут, хлопает по заднему карману, где располагался обычно кошелёк с деньгами. А с вами я ничего не заработаю. Тем не менее, как-то дело теплилось. Когда я пришёл на стенд, разработка проблемы велась активно. Это и отработка технологии и проведение испытаний. ТВЭЛ делался на основе окиси бериллия и окиси урана (несколько процентов). Дело в том, что температура газа требовалась очень высокой и соответственно применялись керамические материалы. Окись бериллия сама по себе своеобразный материал. Он действует на человека избирательно в том плане, что есть устойчивые люди к окиси бериллия, а есть неустойчивые. Скажем, один человек может работать с нею, постоянно общаться, как и с керамическим материалом, пылью, а другой может жить далеко от этого места, где работают с окисью бериллия, и получить бериллиоз. Это страшная болезнь, суть которой заключается в том, что происходит отёк лёгких. Человек синеет, буро-красное лицо, и, в конце концов, умирает. Таких людей я видел, в частности, начальника цеха Подольского завода, на котором делали для нас кассеты из металлического бериллия. Так вот, в мои обязанности входило управление стендом для испытания этих ТВЭЛов. Стенд представлял собой две авиационные камеры сгорания, которые под углом сходились на испытательную камеру, получалось что-то в виде штанов таких. Испытываемые образцы располагались внутри этой испытательной камеры, которая продувалась газами, исходящими из камеры сгорания с температурой больше 1600°C. Топливом служил авиационный керосин, а воздух подавался от компрессора. Помню как сейчас компрессор марки К-250, имел несколько тысяч оборотов в минуту и производительность 250 м3 воздуха в минуту. Нам обычно столько воздуха не требовалось, поэтому остаток воздуха через трубу выбрасывался в атмосферу, в результате чего был просто страшный свист и шум. Даже далеко в городе было слышно, когда мы работали. Испытывали разные варианты ТВЭЛов в виде большого монолитного блока, в котором было больше сотни отверстий, через которые протекали продукты сгорания керосина. И второй вариант - это трубочки. Такой же блок набирался из отдельных шестигранных трубок, получалось типа кассетного варианта. Когда рассматривалось на крупном совещании в военно-промышленной комиссии, то были возражения против монолитного блока. Специалисты сомневались, будет ли монолитный блок работоспособен. На то были основания с точки неоднородности материала, неоднородности температурного поля. Тогда Малых Владимир Александрович, человек экстравагантный, острый, и сказал, ну зачем нам делать плащ из презервативов, давайте сразу шить плащ целиком. Подразумевая, что блок будем делать сплошной. Первые же испытания показали, что такой блок растрескивался. Всё это трещало и вылетало в трубу. Из испытательной камеры вылетала окись бериллия, куски окиси бериллия с ураном вместе и продукты взаимодействия окиси бериллия с продуктами сгорания керосина. Никаких фильтров, уловителей! Прямо на улицу! Оказалось, что пары воды при высокой температуре взаимодействуют с окисью бериллия и как бы обсасывают её. Это мы наблюдали на передних торцах трубок, которые расположены ближе к камерам сгорания. Толщина уменьшалась плавно, как бы таяла. Это был эффект взаимодействия. Всё это летело на территорию корпуса 3С и в сторону пляжа, где люди отдыхали, ничего не подозревая. Такое отношение было к технике безопасности. Летит, ну и летит. Крупные куски подбирали, а мелочь так и оставалась. Работали посменно. Главным механиком, который курировал компрессор, был Сержантов Николай Филиппович. Человек очень общительный, добросовестный, кстати, участник парада Победы над фашистской Германией. Он делал всё добротно, основательно. Его основной задачей было обеспечить работу компрессора, а стенд и управление подачей воздуха было за мной. Воздух подавался через автоматические задвижки, которые регулировались с центрального пульта, с которого я и управлял. Температуры высокие, давление высокое и камеры сгорания работали на пределе, иногда выходили из строя. Тем не менее, испытания понемногу продвигались. Однажды академик Александров приезжал в ФЭИ и приходил к нам на стенд. Смотрел все результаты испытаний. Меня удивила его простота в общении. Дело было летом, пришёл в рубашке без галстука, лысый полностью. Впечатление могущественного атомщика не производил, хотя таковым был на самом деле. Официально начальником стенда и начальником лаборатории одновременно был Семён Николаевич Работнов. Он практически этим совсем не занимался, потому что был ещё и секретарём парткома ФЭИ. Там у него был кабинет, и он там в основном и располагался. Поэтому рабочий день у нас контролировался таким путём: приход на работу каждый отмечал сам за себя, во сколько пришёл и во сколько ушёл. Иногда он приходил и сам посмотреть, как тут народ приходит. Попался один раз и я, когда опоздал. Пригласил меня, ну как же так. Не ругал, а так, предостерегал внушительно. Я пообещал, что такого больше не будет, и с тех пор действительно взял себе за правило строго приходить вовремя и дальше не нарушал его. Параллельно с основным стендом был построен второй. Суть которого заключается в создании высокотемпературного газового потока за счёт электрического разряда между двумя электродами. Берутся два мощных электрода, водоохлаждаемые. Они должны поджигать дугу и затем растягиваться. Правда, я уже не командовал этим стендом, там другие командовали. Я потому об этом говорю, что, когда поджигали дугу, и начинал работать этот стенд, то стоял резкий запах во всех помещениях. Мы считали, что это озон образуется при разряде, а я потом обратил внимание, что на выхлопе идёт газ рыжего цвета. Потом выяснилось, что это так называемый "лисий хвост". А "лисий хвост" образует моноокисный азот. При взаимодействии с парами воздуха образуется ещё и азотная кислота. Потом уже говорили, что всё это страшный враг селезёнки. К счастью, стенд этот работал не очень долго, потому что никак не удавалось стабилизировать дугу. И в конце концов его разобрали. Специфика работы с Владимиром Александровичем Малыхом заключалась в том, что он иногда исчезал на несколько дней, а потом вдруг появлялся или пересылал через кого-то, что надо сделать в течение вечера или ночи десятка два технических заданий на новые стенды, на новое оборудование. И мы готовили эти материалы, потом ехали на заводы, согласовывали технические задания на стенды. И на одном из этих совещаний я оказался в Москве, в НИАТе, а Валя (жена) была в роддоме. Мне надо было ехать в командировку, а у неё начались схватки, её увезли в роддом. Я из Москвы всё время названивал, "как дела, как дела?". Роман Славинский, лаборантом работал на нашем стенде, всё время поддерживал связь с роддомом. Только примерно в 6 часов вечера появился на свет Борис (сын). Малых был человеком активным. Чувствовал новое, идеи поддерживал и в данном случае он занимал такую активную позицию по самолётному реактору. Хотя эта идея была изначально нереальна, так как на самолёт реактор не установишь, он слишком тяжёлый. Но даже если и установишь, то нужна была такая биологическая защита экипажа, которая не подъёмна для самолёта. Плюс ещё во время взлёта и посадки остаётся радиоактивный след. А если самолёт упадёт?! В конце концов, по результатам всех испытаний, проект был остановлен, работа прекращена. Свернули этот проект и американцы. К этому времени появилась тема "Тополь". Это проект прямого преобразования ядерной энергии в электрическую. Когда такая идея появилась, Малых очень активно ухватился за неё. Он всегда живо хватал новые вещи. Так ухватил и раскрутил, что в ФЭИ раньше других институтов сумел зажечь электрическую лампочку на реальном макете такого преобразователя и показал, что можно получать реальный эффект. Поэтому тему прямого преобразования поручили нашему отделу, отделу Малыха. Он её курировал, и надо сказать, что довёл до хороших результатов. Моя задача заключалась в том, что надо было испытывать трубки из окиси бериллия и окиси алюминия, которые создавали трубчатые элементы, обеспечивавшие электроизоляцию между анодом и катодом ТВЭЛа. Я создал новый, более простой стенд, чем газовый, и проводил термоциклирование. Погружалась трубка в зону высокой температуры обычной электрической печи, а затем охлаждалась. Трубка нагревалась и охлаждалась многократно, а потом изучали, какой эффект получается, как теряется прочность и меняется структура материала трубки. По совокупности работ, по исследованию на керамических ТВЭЛах для авиационного двигателя и на трубках для "Тополя" я подготовил диссертацию. Кандидатскую диссертацию я защищал на Учёном совете Физико-энергетического института. Ведущим предприятием по диссертации был назначен Подольский опытный завод, а оппонентами были: из ФЭИ - кто-то из сектора теплофизики и Лихачёв Юрий Иванович. Он курировал прочностную часть. Из Института атомной энергии (нынешний Курчатник) тоже было заключение по части работы. Защита прошла успешно. Я как-то не очень волновался, потому что перед этим диссертацию смотрел Лейпунский Александр Ильич, председатель учёного совета, и она ему понравилась. Всё отчёты, которые выходили из ФЭИ, он обязательно рассматривал, читал довольно внимательно и подписывал как научный руководитель ФЭИ. Поэтому всё отчёты, которые шли по керамическому реактору, я лично утверждал у него. Он рассматривал и надо отдать должное, не придирался к каким-то там формулировкам или чему-то. Как правило, ничего не исправлял, но суть улавливал, и если всё было нормально по эксперименту, анализу, он подписывал тогда без всяких правок. Не надо было перепечатывать, как часто бывает. Он очень доброжелателен был. Учёный совет прошёл спокойно, проголосовали единогласно. А Валентина, жена моя, она уже работала в ФЭИ, пока шла защита, всё время ходила по коридору перед залом учёного совета и волновалась. На этом совете защищалось две диссертации: моя и Лебедева. Лебедев был постарше, участник Отечественной войны, у него защита тоже прошла успешно. Мы потом вместе отмечали защиту в ресторане, в "Столбах". Кстати, с диссертацией тоже был один казус. Когда я две трети работы сделал, эксперимент провёл, выяснилось, что параллельно со мной над исследованием этих же материалов и ТВЭЛов работает Тихонов Николай Иванович в Институте атомной энергии в Москве. И тоже продвинулся всерьёз. Его научным руководителем был Фридман, заведующий кафедрой МИФИ. Стали разбираться, что делать. Порешали, порешали, довольно дружелюбно посмотрели и остановились на таком варианте, что я продолжаю исследование нестационарной термостойкости и цикличного повреждения материала, а Тихонов исследует воздействие стационарных тепловых перепадов на поведение ТВЭЛов. Таким образом мы разошлись. Я давал отзыв на его диссертацию, а они давали отзыв на мою. Главное вовремя было выяснить, а иначе могло бы быть, что в ВАКе "встретились" две диссертации и могли бы возникнуть проблемы. Полностью весь материал читайте в книге Ромашин А.Г. "Автобиографическая повесть генерального директора". ИСТОЧНИК: Цитируется по книге: Ромашин А.Г. Автобиографическая повесть генерального директора ДАТА: 29.03.2010 |
| |||
© AtomInfo.Ru – независимый атомный информационно-аналитический сайт, 2006-2025.
Свидетельство Рѕ регистрации РЎРњР РР» №ФС77-30792.
ATOMINFO™ - зарегистрированный товарный знак.
Рспользование Рё перепечатка материалов допускается РїСЂРё указании ссылки РЅР° источник.